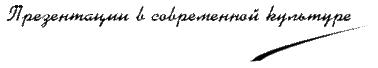
Устюгова В. В.
«Один день из жизни» большого города в киноэкспериментах
европейских документалистов 1920 – 1930 –х годов
На экране –
Москва 1927 года… Уникальность этого кинообраза сегодня
заключается в том, что мы можем видеть драгоценные хроникальные кадры старой
Москвы, еще не подвергшейся оссманизации, Москвы
накануне грандиозной реконструкции, чей облик запечатлен в редких произведениях
времени. Наряду с «Московским дневником» В. Беньямина
фильм вертовских киноков М.
Кауфмана и И. Копалина
«Москва» (1927) – факт эпохи, обладающий как произведение искусства, однако,
скромными художественными достоинствами.
С момента выхода романа «Улисс»
в начале 1920-х гг. сюжет одного городского дня стал актуален для искусства.
…Кадры утреннего города, дворники метут мостовые, проезжают поливальные машины,
в подворотнях жмутся беспризорники, шныряют по помойкам бродячие кошки, но
выходят из депо трамваи, пересекают улицы пролетки и автомобили, людские потоки
устремляются к воротам заводских проходных, открываются двери учреждений. «На
работу», – гласит надпись. На экране пока никаких особых примет нового
социального быта, напротив, акцентированы сцены отдыха и развлечений – мелькают
кадры бегов на ипподроме, других спортивных мероприятий, городских парков,
аттракционов, каруселей и лукаво-счастливые лица детей. Оживленно в продуктовых
магазинах, богато в антикварных лавках, в фокусе зрения – нэп. Оживление «На Кузнецком», «На Тверской», на рынках толпы народа,
цыгане, уличные торговцы, лавки, вывески – «Мебель. Кровати. А.
Куликова» и пр. Работают почта, телеграф, типографии, заводы. Камера – «На
городской станции связи», «На Трехгорной
мануфактуре»…
В том же году аналогичная идея документального рассказа
о дне большого города была осуществлена немецким кинорежиссером В. Руттманом в фильме «Берлин – симфония большого города»
(1927). В. Руттман увлек зрителя изобразительным,
графически четким анализом динамики городской жизни, яркими сопоставлениями и
смелым ритмическим монтажом. При том, что фильм был
аполитичным, он вышел дерзким. Его авангардизм близок анархистской ленте Ж. Виго «По поводу Ниццы» (1929) и экспериментаторскому
«Человеку с киноаппаратом» Д. Вертова (1929). Авторы
же хроникально-видового фильма «Москва» ограничились перечислением
спонтанно-разрозненных кадров городской жизни и видов столичной архитектуры,
общим обзором ее панорам. Отсутствует контрастно-ритмической монтаж,
конформистской была «Москва» и по своим задачам. Киноки
хотели заставить зрителя задуматься о тех переменах, которые внесла в жизнь
столицы и целой страны – новая социальная реальность. В этой целью они
постарались противопоставить мало в чем изменившийся
внешний облик города новому содержанию жизни в нем.
Дополнением к завершенному городскому дню выступают
новые кадры города. Кинооператоры панорамируют по стенам и дворцам Кремля,
Красной площади, центра города – Храму Христа Спасителя, Покровскому собору на
Красной площади, Успенскому в Кремле, – все выглядит так же как до революции.
Замерли Царь-пушка и Царь-колокол, спешат старушки в церковь. Но стрелки часов
на Спасской башне в наплыве сменяются кадрами новорожденных младенцев, а потом
других оживленных и топчущихся малышей – и этой метафорой авторы показывают, что
родился новый мир, что старые часы отсчитывают уже советское время.
Ангажированная кинопублицистика киноков резонировала
с почти иррационально-сюрреалистическим образом Москвы, данным в те же самые
годы В. Беньямином в «Московском дневнике». На его
страницах проходит и «Шестая часть мира» Д. Вертова,
и другие образы интеллектуальной, а также политической жизни Москвы, однако
обледеневшие московские улицы, лотки с новогодними игрушками и даже ленинские
уголки приобретают у В. Беньямина какую-то
удивительную сакральность, как впрочем
любые явления столь ценимой им массовой жизни и культуры.
Европейская
кинодокументалистика, вдохновленная поэтическим
кинематографом Р. Флаэрти и киноэкспериментами
Д. Вертова, родилась и развивалась в 1920-1930-е гг.
как бы на разных полюсах. С одной стороны – школа британского
кино, которая сразу же заявила с киноэкрана о своих демократических позициях и
стремлении к публицистическому анализу процессов повседневной жизни, ярким
свидетельством чему является, например, картина «Ночная почта» (1936)
режиссеров Б. Райта и Г. Уотта, рассказывающая о
буднях служащих британской королевской почты, доставляющих ночную
корреспонденцию из Лондона в небольшой шотландский городок (так сказать – «одна
ночь из жизни» служащих королевской почты). С другой – германский
кинематограф, создавший в межвоенные десятилетия по крайней мере два киношедевра,
максимально отдаленные друг от друга и по своей поэтике, и по стилистике. Ими,
без сомнения, являются фильм В. Руттмана «Берлин –
симфония большого города» (1927) и лента Л. Рифеншталь
«Триумф воли» (1934). В одном процессы городской
повседневности были подвергнуты монтажной «мясорубке» в духе Д. Вертова, а в другом – с блестящим мастерством и
пропагандистским угаром «растоптаны» на улицах Нюрнберга в бесконечных
празднично-барочных шествиях и парадах нацистского съезда
Жизнь
большого города притягивала кинодокументалистов разных направлений и все-таки
наиболее интересными экспериментами оказались попытки авангардистов запечатлеть
«симфонию большого города». «Берлин – симфония большого города» (1927),
фильм-репортаж о 24 часах жизни столицы, снят в традициях модной в 1920-е гг.
концепции «новой вещности», суть которой заключалась в том, чтобы показывать
мир как он есть, вне связей и анализов. Жизнь течет непрерывно, не имеет ни
начала, ни конца, фильм должен стать ее отражением, словно зеркалом витрины, в
которой отражаются прохожие, автомобили и пр. Идея такого фильма принадлежала
К. Майеру, известному сценаристу, в т.ч. многих экспрессионистских фильмов, но
обратившемуся на этот раз к непосредственному жизненному материалу. Репортажная
фотография Берлина снималась оператором К. Фрейндом
скрытой камерой, в результате чего удалось запечатлеть множество уличных
эпизодов. Однако режиссером картины стал В. Руттман,
известный в художественных кругах авангардист и абстракционист, и он
трансформировал первоначальный замысел. Жизнь большого города в хаосе его отдельных эпизодов, случайно подсмотренных камерой сцен при
помощи монтажа превратилась в настоящую визуальную симфонию.
…Движение
воды превращается в абстрактные линии волн. Пересекаясь, волны превращаются в
прямые линии, символизирующие железнодорожные рельсы. Поезд дальнего следования
проезжает через утренний ландшафт. Табличка «Берлин, 15 км» указывает на пункт
назначения. Рядом с железнодорожной насыпью появляются жилые дома и фабрики.
Нагромождения зданий, семафоры. Поезд прибывает на Ангальтский
вокзал. Тайм-аут, затишье… И далее следует
хроникально-хронологическое отображение событий, которые произошли между пятью
часами утра и поздней ночью в Берлине
Одна
гигантская декорация, один единственный актер – Берлин, город-гигант,
город-машина, город-молох. Фильм испытал влияние советской школы
документального киноавангарда, но в нем отчетливо
проявились и черты немецкого экспрессионизма. Город – механический мир, течение
времени в нем – ритм движения гигантского механизма. Автоматически двигается
человек в этом мире, подчиняясь движению стрелок часов, которые ежедневно
возвращают служащих в канцелярии, рабочих к станкам, подчиняя их жизнь
единообразному ритму, пропуская их через конвейер повседневной жизни. Острые,
запрокинутые ракурсы диктуют композицию кадра: пересекают город железнодорожные
пути, трамвайные колеса режут улицы на части. В сплетении улиц, нагромождении
рекламных аттракционов, «пытке» архитектурой и городскими ритуалами «маленький
человек» потерян. Но фильм не о власти большого города над «маленьким
человеком», а о самом большом городе, работающем в собственном ритме,
существующем по собственным иррациональным законам, фатуме самом по себе.
Люди
– по-прежнему манекены, город – механический процесс, но виньетки уличной жизни
переданы с безупречным чувством ритма. «Жизнь врасплох» В. Руттман
наполняет образчиками чистого движения и создает из бесчисленных и разрозненных
берлинских сценок «пластическую мелодию», «поющую пластику» города. Режиссер
работал в сотрудничестве с молодым композитором Э. Майзелем,
ставшим известным благодаря своей музыке к «Броненосцу “Потемкин”». Музыка Э. Майзеля становится формальной основой монтажа «марша
машин». Здесь все рифмуется со всем: идущие на предприятия рабочие со
стадом коров, дети – с резвящимися
мартышками, телефонные разговоры – с дерущимися собаками, кордебалет – с
танцующей лошадью, вихрь листьев на мостовой – со все ускоряющейся, бешенной суетой. Жизнь показана как работающий станок, но
музыкальность ритма работающей машины подчеркивает отстраненность и безразличие
авторской позиции, даже ее отсутствие.
Экспрессионистские
запрокинутые ракурсы съемки, различная скорость движения пленки, короткий
монтаж – и все превращается в экспрессию, в абстракцию. Концепция «новой
вещности» нашла в «Симфонии» свое совершенное воплощение и абсолютное
опровержение. Здесь и фиксация тысячи разрозненных фактов, и преклонение перед
гигантской работающей машиной, и чувство затерянности в этом непреклонном
социальном фатуме, и растущее анархистское бунтарство, выраженное в дерзком
ритме монтажа, режущем пространство всемогущего города по законам всемогущего
Кино.
В
кинематографе Д. Вертова образность киноагиток и образной кинопублицистики изначально
диктовалась новым, монтажным способом «организации видимого мира». В его
пропагандистскую кинохронику закрадывается кинематографическая метафора, его
эксперименты граничат с кинематографическими трюками. Различные приемы съемки,
но, главным образом, монтажные эксперименты приводят Д. Вертова
к «развоплощению» видимой реальности и творению кинореальности. Легендарный фильм «Человек с киноаппаратом»
(1929) – самое крайнее выражение киноческих теорий и
самый безыдейный проект Д. Вертова. Фильм на
материале одного дня столичного города представлял собой эксперимент по созданию
100 % языка кино, чистого киноязыка.
Даже
в сравнении с фильмом В. Руттмана «Человек с
киноаппаратом» демонстрирует только фокусы и аттракционы, только киновремя и кинопространство. В
отличии от «Берлина» фильм Д. Вертова,
конечно, эмоциональней и лиричней, и одновременно «Человек с киноаппаратом» –
более экспериментальный проект, здесь больше трюков с камерой, с изображением,
с монтажом, здесь больше технического эксцентризма.
Фильм В. Руттмана – о городе, духе, фатуме, воле
города. Лента Д. Вертова – о кино. О кинооператоре,
кинокамере и киноприемах. Не визуальная «симфония»
большого города, а набор формальных, изобразительных приемов большого кино. Применение различных
видов съемки, операторских трюков и монтажных деформаций создали мир
любопытства, эксперимента, игры с действительностью, игры в кино. Это фильм о
том, как из чистого озорства и только ради живописно-ритмического эффекта можно
превратить жизнь в кино.
Устюгова Вера Васильевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры
древней и новой истории России Пермского государственного университета. vera_ust@list.ru