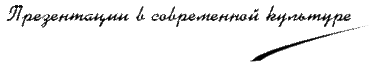
Чащухин А.В.
Презентационные техники
советского учителя 1950-н. 1960 - х гг.
Обычно
презентация и идентификация понимаются как взаимосвязанные, хоть и не
тождественные друг другу социальные процессы. Условно соотносимые как внешние и
внутренние, процессы презентации и идентификации направлены соответственно на
«маску» и «личность». Эти процессы не противопоставляются, а
взаимообуславливают друг друга. В предыдущих исследованиях на эту тему делалась
попытка реконструировать самоидентификацию учителей 1950-начала 1960-х гг. В
этой работе наше внимание будет сосредоточено на презентационных техниках этой
социокультурной группы.
«…Аторитет
учителя создается не только в классе, не только в стенах школы. Он создается
или теряется в быту. Личная жизнь у нас неразрывно связана с
общественно-политической…Люди вправе ждать от педагога, человека высокой
сознательности, примера в соблюдении правил социалистического общежития. Но
разве нет случаев, когда учитель вместо того, чтобы культурой своего поведения
задать тон среди окружающих, ввязывается в бытовые склоки, различные мелкие
дрязги, нечистоплотен в быту. Личная жизнь педагога тоже должна воспитывать
окружающих». Этот отрывок, обнаруженный в личном фонде известного в Перми
преподавателя и начальника Облоно Т.Е. Ивановой представлял заготовку для
диспута «Каким должен быть советский учитель-воспитатель»[i].
Очевидно, что мы имеем здесь дело с эталонным образом преподавателя. Правомочно
ли говорить о презентации применительно к эталону педагога? Скорее всего - нет.
Само понятие презентации подразумевает наличие некоего «закулисья»,
рекреационной зоны, где поведение человека может быть отличным от публичного.
Идеал учителя – общественника и в быту и в школе гордо выполняющего свою
священную миссию предполагает абсолютное совпадение презентации и
идентификации, а точнее – поглощение первого вторым. Было бы наивным полагать,
что эталон совпадал с реальными поведенческими моделями. Речь все-таки идет о
представителях, хоть и мифологизированного, но все же не архаического общества.
В самом отрывке, кстати, содержится указание на различие между образом и
реальными людьми. Попытаемся разобраться в том, где преподаватель мог скрыться
от зрителей и найти упомянутые выше «кулисы». Начнем с того, что И. Гофман называл
«декорациями», т.е. внешней, чаще всего неподвижной обстановкой для презентации[ii].
Для педагога 1950-х символическая иерархия школьного пространства была намного
жестче, чем для современного учителя. Казалось бы, школа того времени, как и
сейчас, имела условную троичную структуру, отражающую позиции основных
участников взаимодействия – администрацию, учителей и учеников. Степень
сегрегации и закрытости между этими зонами была значительно выше, чем сейчас.
«Да мы ведь, в то время, такого контакта, как допустим последние года там,
контакт, вот если судить по фильму «Доживем до понедельника», да по другим
фильмам, где контакты между учениками и учителями довольно тесные в этих
фильмах, а у нас не было таких тесных»[iii].
При этом «восходящее проникновение» (например ученика в учительскую)
оказывалось строго регламентированным, а «нисходящее проникновение»
осуществлялось свободно. С этой точки зрения учитель был в состоянии скрыться в
учительской от учеников, но нигде не мог «спастись» от своих коллег и тем более
– директора. «… а я вдруг тоже заявила: «а у меня тоже для дорогого гостя есть
бутылочка вина». Все – это все уже было донесено директору. Меня вызвали на
ковер и стали допытывать: «Это какой дорогой гость?». И мне стали говорить, тут
конечно профорг, парторг, и стали меня все воспитывать, говорить, что я позорю
честь солдатки, потому что муж служит в армии. Я – солдатка, оказывается. Я
никак не могла понять, чем я позорю»[iv].
Презентационные техники 1950-х в сравнении с современностью отличались большей
степенью публичности. В процессе развития кабинетной системы педагог получил
небольшие, относительно приватные пространственные зоны: кабинет от которого
имеются свои ключи, лаборантская, где могут храниться личные вещи и можно
переодеться. Иными словами современный педагог часто может скрыться «за
кулисы», уйти в «приватизированную гримерку», вход в которую для посторонних не
столь открыт. Иной ситуация была в 1950-е гг. Кабинетная система только
начинала формироваться. В принципе любая пространственная зона, в которой
оказывался преподаватель, была открытой либо для учеников, либо для коллег.
Учительская могла выполнять функцию «заднего плана исполнения» только по
отношению к ученикам. Настоящим же «закулисьем» для преподавателя мог служить
только дом. «И самое что интересное, они никогда, я вот не помню, были ли они
замужем»[v].
В известных пределах, личная жизнь могла дистанцироваться от работы. При всей
несформированности городского пространства Перми того времени, все же у
учителя, как и у любого горожанина, была хоть небольшая, но возможность
относительно изолированного существования от школы в другом районе, сельские
учителя, к примеру, были лишены и этого.
Неотъемлемым
элементом презентации всегда выступает внешний вид. Скромность в одежде,
которую отмечали все интервьюируемые, во многом была следствием финансовых
тягот. Однако одной экономикой не объяснить относительного однообразия в манере
одеваться. Вариантов было не много: костюм темных тонов, состоящий из юбки в
комплекте с пиджаком или светлой кофточкой – блузкой. Обязательной обувью были
туфли (ни в коем случае не сапоги и не валенки). Последнее, кстати, могло быть
обременительным с финансовой точки зрения. Классическим символом учительской
прически были собранные в узел сверху волосы[vi].
Очевидно, что функции подобной «униформы», элементы которой встречаются до сих
пор у пожилых педагогов, сводились к необходимости «объединяться и отделяться».
Вместе с тем, в начале 1960-х гг. на этот стиль начинают воздействовать новые
культурные эталоны зарождающейся городской среды. Иные культурные ориентиры,
воздействовали и на презентационные техники. Естественно, что коль речь идет
преимущественно о педагогах-женщинах, наиболее серьезным испытанием для
презентации на рубеже 1950-60-х гг. становилась мода. «…Не понимаю я, как это
накрашенная, нелепо завитая
наманикюренная учительница смеет обличать в учениках ложь, обман,
нечестность, если вся ее внешность – кричащая ложь, обман и нечестность?!
Многие люди в наше время настолько привыкли к позорным заимствованиям от
растленной западной буржуазии украшениям своей внешности, что считают их
нормой, а «пуритан» вроде меня – чудаками, людьми музейными, а то просто
выжившими из ума. Ложное понятие о внешней красоте внушается и детям»[vii] Гнев опытного преподавателя А.М. Топорова на
страницах «Учительской газеты» в
Презентационные
техники, как и самоидентификацию педагога того времени можно охарактеризовать
как кросскультурную ситуацию, для которой было свойственно далеко идущее
несовпадение культурных осей. Учитель, вынужденный выполнять двойственную роль
профессионального педагога, разбирающегося в преподаваемой дисциплине и
партийца, беззаветно преданного идеалам коммунизма, бесконечно скромного, образцового,
простого советского человека. В школе возникали ситуации, при которых эти
разнородные культурные свойства взаимно усиливали и дополняли друг друга.
Вероятно, легче всего было синтезировать эти свойства историку-обществоведу. В
ситуациях иных расхождение приобретало такие масштабы, что педагог был вынужден
обращаться к социальным шизопрактикам. Примером таких практик является попытка
использовать номенклатурный язык в профессиональных целях, например, обвинять
учителя по аналогии с Г.К. Жуковым в бонапартизме за грубое отношение к детям[viii].
В одном случае партийность подчиняла профессионализм; в другом профессионализм
оттеснял партийность на периферию поведения. Мы изрядно упростили бы картину,
если бы не приняли противоречивые тенденции
воспроизводства и развития тогдашней городской среды, оказывавшей
существенное воздействие на исполнение любых социальных ролей: политических и
профессиональных. Культурные разрывы и пробелы одним из своих последствий имели
возрастающее чувство отчуждения от социальных институтов, что проявлялось в
девиантном поведении и иных выражениях социального аутизма.
Чащухин Александр Валерьевич – аспирант кафедры культурологии Пермского
государственного технического университета. ist75@mail.ru