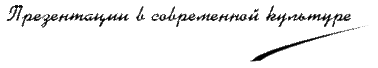Бушмаков
А.В.
Идентификация
интеллигента в пореформенной России второй половины XIX – начала ХХ века
Процесс модернизации,
приводящий к эмансипации личности, породил проблему соотнесения отдельного индивида
с какой-либо социокультурной группой (идентификация), ранее не актуальную.
Представители традиционных сословий доиндустриального общества, получали свой
статус по праву рождения, их жизнь проходила в рамках, определенных четко
заданными нормами поведения для того сословия, к которому они принадлежали, и в
основных чертах воспроизводила жизнь предыдущего поколения.
В исследуемый же период
место личности в обществе, до этого четко определявшееся происхождением и
бытовавшей традицией, стало все более зависеть от прилагаемых индивидуальных
усилий и варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств. Увеличилось
количество культурных образцов, доступных для подражания, появилась возможность
выбора социокультурной группы, а в дальнейшем перехода от одной социальной роли
к другой. Одновременно возникла и проблема подтверждения соответствия человека
выбранной им роли, того насколько воспринимали и принимали окружающие
самоидентификацию конкретного индивида, – настоящий ли он интеллигент, или
только притворяется «прогрессистом»?
Один и тот же человек
теперь мог считать себя интеллигентом, охотником, спортсменом, литератором или
«дельцом» и в зависимости от ситуации позиционировать себя окружающим тем или
иным образом. В обществе с резко выросшей горизонтальной и вертикальной
мобильностью, появилась возможность менять «маски» в зависимости от окружения:
коллег и начальства на работе в конторе какого-нибудь банка или акционерного
общества, членов кружка краеведов и любителей естествознания, на даче в деревне,
в полуподпольном кружке радикально настроенных интеллигентов. Один и тот же
человек мог казаться то усердным и послушным служащим, корпящим над
отчетностью, то глубокомысленно теоретизирующим ученым мужем, то вальяжным
барином, или яростным борцом за народную волю. Прохожий на улице «полный
мужчина с клинообразной бородкой в круглой шапке» служивший присяжным
поверенным и ходивший на службу в девять утра, а возвращавшийся в четыре, мог
оказаться руководителем социал-демократического кружка, организатором
подпольной типографии, одновременно занимаясь изучением местной истории в
составе губернской ученой архивной комиссии.
Наиболее заметной новой
социокультурной группой, возникшей в России последней трети XIX
века была интеллигенция, с которой к концу века отождествляла себя значительная
часть образованных жителей империи. Рекрутировавшуюся из разных сословий,
включавшую в себя людей разных профессий и разного уровня благосостояния,
интеллигенцию объединял общий набор ценностей, норм и правил, следование которым
и предполагало отнесение человека к этой социокультурной группе. Критерий
отнесения конкретной личности был довольно расплывчат, тем не менее,
существовал вполне устойчивый в общественном сознании набор характеристик,
позволяющий отличить интеллигента, которому должен был соответствовать всякий
претендующий на это звание[i].
Идеальный тип интеллигента
был выработан усилиями сравнительно небольшой группы людей, завоевавшей
популярность в среде студенческой молодежи, прежде всего столичной в эпоху
1860-х годов, а затем усвоенный и к 1880-м годам ставшим эталонным для выходцев
из среды разночинцев, занявших довольно неопределенную позицию между властью и
широкими массами населения страны. Дело в том, что большинство этих людей, даже
получив образование, находились в полумаргинальном положении – твердую
уверенность в собственной состоятельности и социальный статус в России давал
только высокий чин, либо значительный капитал, которого большинство
образованных людей в России имело возможность (притом далеко не гарантированную)
достигнуть лишь ближе к концу своей жизни.
Ценности и стереотипы
поведения интеллигента, в либеральном варианте земца-культуртрегера и в
особенно привлекающем молодежь роковом, революционном – борца, героически
жертвующего собой ради народного блага были усвоены широкими массами
разночинцев, слишком бедными и не имеющими достаточных возможностей для
самореализации в условиях тогдашней российской действительности для того, чтобы
воспринять строго рационалистические и индивидуалистические ценности буржуа
западного образца.
На рубеже XIX
– ХХ веков
идеальный тип интеллигента был воспринят и с разной степенью успешности
транслировался широким кругом лиц, считавших себя образованными – земскими
учителями, фельдшерами, конторщиками, служащими различных учреждений и прочими
людьми, умевшими читать газеты и не зарабатывавшими на жизнь физическим трудом.
Насколько глубоко и
органично были усвоены ценности российской интеллигенции в провинции к началу
ХХ века? В какой степени соответствовали высокому идеалу шестидесятников
провинциальные интеллигенты нового века, зачастую не имевшие возможности не
только посещать театр и читать свежие журналы, но и просто регулярно менять
рубашки?
Для образованного человека,
находившегося на земской службе, была типичной, почти обязательной презентация
себя в качестве народного защитника, работающего не ради жалования и карьеры, а
для того, чтобы оказывать реальную помощь «простому народу».
Классический пример такой
интеллигентской презентации рубежа XIX–ХХ вв. представляет
рассказ Л. Михайлова «Мой первый праздник», опубликованный в литературном
приложении к «Пермским ведомостям». Автора, служащего в земском учреждении в
уездном городе, находящемся в «глухом углу губернии» и с негодованием глядящего
на окружающую его «сутолоку самоугождения и сытого довольства», чувство долга
бросает в канун Рождества отправиться за 50 верст в глухую башкирскую деревню,
жители которой оказались на грани голодной смерти.
Такой подвиг
самопожертвования резко контрастирует с поведением сослуживцев автора – «мелкой
сошки», увлеченно обсуждающей «предстоящее пьянство, игру в карты и другие
подобные эстетические удовольствия». Этим «винтикам» налаженной машины земского
учреждения, в отличие от автора рассказа, не было дано иметь «свежую голову и
большую долю воображения, чтобы в этой бумажной жизни уловить… основной импульс
деревенской жизни, с ее невзгодами и печалями, которые совершенно
обесцвечиваются канцелярским шаблонным языком». И не только уловить, но «дать
соответствующее направлению земской деятельности разрешение всем этим
«ожидающим делам».
Совсем некрасиво выглядит и
начальник нашего героя, отреагировавший на желание своего подчиненного
отправиться на помощь голодающим замечаниями про то что «дело не волк, в лес не
убежит», и «вот они где, подлецы, у меня сидят со своими просьбами»,
сопровождаемыми похлопыванием пухлой руки по затылку.
Автор рассказа с «большим
трудом» преодолел сопротивление начальства, убедив дать ему отпуск на несколько
дней (что не очень понятно, т.к. в праздник он и так мог не являться на
службу), и при том, снабдив «небольшой суммой из благотворительного фонда». Он
стоически перенес тяготы зимней дороги, пока «пара бойких земских лошадок
быстро катила» его в «глухую башкирскую деревушку». Наутро, проснувшись, герой
рассказа «за стаканом чая» выслушал местных жителей, пришедших посмотреть на
«барина» и, испытав чувство жалости к голодающим, предпринял подворный обход
деревни, закончившийся только к вечеру. Автор показывает представшие перед ним
картины «бедности и тупого фатализма», доведшие его до нервного истощения.
Сделав необходимые распоряжения он не мог уснуть и вышел, чтобы взобраться на
гору рядом с селением, где, сидя на крыльце полуразвалившегося пустого хлебного
магазина (склада), созерцал картину безмолвной снежной пелены и «черную массу
селения» с одиноко блестящим полумесяцем на минарете мечети[ii].
Таким образом, в рассказе
четко фиксируются все три главные составляющие интеллигентской картины мира
рубежа XIX – ХХ вв.: страдающий и забитый народ, паразитирующие на нем
власти и интеллигент, чья миссия состоит в том, чтобы, жертвуя собой и борясь с
властью, этот темный народ спасать. Поскольку в данном случае мы имеем дело с
либеральной версией интеллигентского мифа, тема противостояния с властью уходит
на второй план. Идеальный тип интеллигента-земца, который олицетворяет собой
автор рассказа, противостоит своему косному окружению, не вступая с ним в
открытую и непримиримую борьбу, как это делают интеллигенты-революционеры.
Основное внимание сосредоточено на той реальной пользе, которую интеллигент
может принести народу, находясь в положении земского служащего и действуя
легальными методами в рамках легально существующих институтов. Типично
подчеркивание жертвенного характера интеллигентского служения, в данном случае
несколько натянутое, – праздничные развлечения в кругу сослуживцев герой
рассказа меняет на поездку в глухую деревню, страдает от холода в дороге и т.п.
Характерно также подчеркивание демонстративных переживаний героя по поводу
народных бедствий, буквально не дававших ему спать, а также призванное показать
его отличия от простых «винтиков» бюрократической машины игнорирование грубых
развлечений местного чиновничьего общества. Образованность героя подчеркивается
упоминанием чтения им «толстых» журналов, что должно было обозначить его как
человека с высокими культурными запросами.
Презентация
интеллигента-революционера отличалась от либерального земца более резким
обозначением противостояния с властью. Принятие в основной цели подготовки и
проведения революции приводило также к отходу на второй план культуртрегерских
устремлений и преклонения перед высокой культурой, характерного для
интеллигентов-нереволюционеров. Менее образованные в своей массе, менее
культурные, в бытовом понимании этого слова, представители этого типа
интеллигентов нередко отвергали или не придавали большого значения общей
«высокой» культуре и пренебрегали образованием в традиционном смысле слова.
Основная масса молодых революционеров начала ХХ века, считала главным
образованием чтение разного рода брошюр и статей, посвященных актуальным
вопросам политической жизни, а также изучение довольно короткого списка
основополагающих работ классиков социалистической и революционной литературы.
Впрочем, и этот базовый минимум «революционного образования» далеко не все из
них могли осилить.
Необходимым элементом
идентификации интеллигента-революционера являлось участие в подпольной
революционной деятельности, а еще лучше – страдания, принятые им во имя
народного освобождения – тюрьма, ссылка, каторга. Идеальный тип революционера
достаточно четко отражают популярные в 1880 – 1890-е гг. стихи
Н.М. Минского, «Последняя исповедь», послужившие основой для сюжета
известной картины И. Репина «Отказ от исповеди»:
«Прости, господь, что
бедных и голодных
Я горячо, как братьев,
полюбил...
Прости, господь, что вечное
добро
Я не считал несбыточною
сказкой.
Прости, господь, что я
добру служил
Не языком одним
медоточивым,
Но весь: умом, и сердцем, и
руками...
Прости, господь, что родине
несчастной
И в смертный час я верен
остаюсь,
Что я, рабом родившись меж
рабами,
Среди рабов — свободный
умираю.
Прости, господь, что я к
врагам народным
Всю жизнь пылал священною
враждой,
Что я друзьям не изменял в
несчастье,
Что вырывал из хищных лап
злодеев
Невинные истерзанные
жертвы;
Что гадине
смертельно-ядовитой
Я притуплял отравленные
зубы;
Что я смутил безумным
воплем мести
Развратный пир прожорливых
святош,
Что я убийц казнил за их
убийство...»
Это произведение, впервые
легально опубликованное только в 1907 году, до этого широко распространялось в
списках (в том числе гектографированных).[iii]
Образ революционера как бескомпромиссного борца с самодержавием закрепился в
художественной литературе рубежа веков и был усвоен массовым сознанием. Для
него характерна непреклонность в борьбе за «правое дело», которая не ищет ни
сочувствия, ни уступок. Нормою для интеллигента-революционера была даже не
просто бескомпромиссность, но и презрение к врагам – жандармам, полицейским,
любым чиновникам царской администрации, доходящее до брезгливости. Идеал
революционера требовал от тех, кто пытался ему соответствовать, фанатичной
одержимости, низводившей все остальные жизненные моменты, не связанные напрямую
с борьбой за народное счастье, до уровня второстепенных, излишних и даже
мешающих этой борьбе, что вызывало у современников ассоциацию с религиозным
сектантством.
В начале ХХ века
герои-революционеры прошлых лет уже стали своеобразным мифом, транслируемым как
в нелегальной, так и в легальной печати. Легенды о героях «Народной воли»
пересказывались в устной и письменной форме, борьбе революционеров прошлого
придавался эпический размах, а сами они наделялись идеальными характеристиками
и сверхчеловеческими способностями. Люди, официально считавшиеся
государственными преступниками, сумасшедшими посягнувшими на священные основы
религии и государственного устройства, после ослабления цензурного гнета в 1905
году в либеральной прессе стали подаваться как «отважные, энергичные, горячо
верующие в свое дело и беззаветно любившие свободу». Более того, авторы
публикаций 1905-1907 гг. уже вполне откровенно рисовали революционеров 1870 –
1880-х в качестве идеала интеллигента и гражданина вообще, восхищаясь
«трогательной душевной красотой и горделивой верностью идеалу» этих «загубленных
апостолов свободы»[iv].
Идеальный тип интеллигента
в общественном сознании рубежа XIX – ХХ вв., конечно, не
сводился к двум вышеописанным его разновидностям – земца-либерала и
революционера. Описание разных типов презентации интеллигентов в дореволюционной
России представляет собой отдельную и достаточно объемную задачу, выходящую за
рамки данной статьи. Да и сами современники, как уже говорилось выше, зачастую
затруднялись с идентификацией того или иного субъекта в качестве интеллигента.
В то же время не приходится сомневаться, что набор признаков, в принципе
позволявших такую идентификацию проводить, и обязывавший соответствовать им,
всех, кто стремился соотнести себя с данной социокультурной группой безусловно
существовал в общественном сознании жителей Российской империи к началу ХХ в.
Бушмаков Андрей Валентинович – аспирант кафедры культурологи Пермского
государственного технического университета. culture@pstu.ru